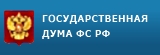ГЕРОЙ ОТДАЛ ЗА РОДИНУ ЖИЗНЬ, А ВЛАСТИ ЕВПАТОРИИ НЕ ОТДАЛИ ЕМУ ДАЖЕ ДОЛГ ПАМЯТИ… |
| 11.05.17 17:21 | |||
|
В канун праздника Великой Победы, по инициативе Управления военной контрразведки по Черноморскому флоту ФСБ России в Евпатории открыли мемориальную доску Александру Галушкину, участнику Великой Отечественной войны, руководителю подпольной группы, 7 мая 1942 года героически погибшему в Евпатории. Открыли скромно, почти незаметно…
Из присутствовавших были лишь ветераны-госбезопасности – Николай Лихин, Олег Раковский, гость из Севастополя – контр-адмирал Виталий Уткин, внук героя-чекиста – Роман Галушкин, да несколько жителей из близлежащих домов. Был так же, как и подобает в таких случаях, почетный караул и оркестр… На этом мероприятии не было только представителей городской власти: глава города и по совместительству руководитель городской партийной организации «Единая Россия» – Олеся Харитоненко, и глава горадминистрации Андрей Филонов не только сами не почтили своим присутствием это мероприятие, но даже не удосужились направить кого-нибудь из своих многочисленных замов… Не сочла нужным отдать долг памяти и «последовательная ученица Станиславского» Нина Пермякова. Не нашлось времени для такого события и ни у одного из депутатов Евпаторийского горсовета. Видимо все эти городские и партийные «лидеры» сочли этот повод незначительным и недостойным своего присутствия. Хотя в своей газете не упустили очередную возможность для самопиара. В материале об открытии мемориальной доски бессовестно написали, что «администрация города Евпатории активно откликнулась на эту инициативу и сделала все возможное, чтобы накануне памятной даты мемориальный знак был открыт». На самом деле доску монтировали жители дома № 40/18 по ул. Чекиста Галушкина, помогали им матрос и мичман из Севастополя, и рабочие с близлежащей стройки… Хотя, объективности ради, нужно сказать, что жители улицы действительно обращались за помощью к Андрею Филонову, однако в ответ услышали, что, дескать, «это частный сектор и тратить деньги на приведение в порядок фасада частного дома город не может». Вот уж поистине двойные стандарты. Ведь при проведении работ по реконструкции своего любимого детища и «золотого тельца» - «Малый Иерусалим» администрацию ни сколько не смущало, что огромные городские деньги потрачены на косметический ремонт целого квартала частных домов… А на просьбу заасфальтировать хотя бы участок улицы Льва Толстого, прилегающего к памятному месту, глава администрации заявил, что по имеющимся у него отчетам улица эта полностью отремонтирована…
Сегодня очень немногие остаются равнодушные к памятным событиям той войны. Евпаторийские «лидеры» видимо как раз и входят в число этих не помнящих… Чтобы освежить их память, мы предлагаем главу из книги Эдвина Поляновского «Столько лет спустя». Называется она «После десанта» и посвящена событиям, связанным с гибелью Александра Галушкина и евпаторийских подпольщиков... Владимир Заскока, фото Владимира Кропотова и автора.
«ПОСЛЕ ДЕСАНТА Моряки сражались почти три дня. В ночь на 7 января 1942 года остаток разгромленного десанта — 60 человек укрылись на улице Русской в доме № 4. Молодые хозяйки двух квартир Прасковья Перекрестенко и Мария Глушко провели ночных гостей в комнаты, на чердак, в сарай. Хозяйки поставили чайник, принесли марлю, стали рвать ее на бинты. Ровенского ранило в глаз, и женщины ножницами извлекли осколок. Рано утром 7 января немцы обходили улицы — двор за двором, дом за домом... У Марии Глушко — девятилетняя дочь, а у Прасковьи Перекрестенко — шестилетний сын и старики.
X. Ровенский: «Мне запомнилось, как утром одна из этих женщин прибежала с улицы и, ломая пальцы, говорила, что фашисты уже подходят к улице Русской». Что спасло их в то утро? Неужели только то, что женщины успели выскочить, нарисовать на заборе крест и написать «холера»? Неужели только это? В жизни случаются трудно объяснимые вещи. Так или иначе, дом № 4 по улице Русской немцы миновали. Когда стемнело, двенадцать человек из группы ушли на разведку, все двенадцать погибли. Оставшиеся моряки до рассвета покинули город. В Севастополь пробились лишь четверо — Литовчук, Лаврухин, Задвернюк и Ведерников, чекисты особого отдела флота. Десять дней и ночей шли они по тылам противника. В Севастополе они, четверо, успели сфотографироваться. Впереди было еще три с половиной года войны. Литовчук и Ведерников погибли вскоре же, когда оставляли с боями Севастополь. А два Алексея — Задвернюк и Лаврухин потерялись в этой огромной войне. Но ушли из Евпатории не все. Двое остались в этом же доме, на Русской, 4, ждать высадки второго эшелона десанта: Я. Цыпкин и Ф. Павлов. Террор в городе продолжал свирепствовать. Из Симферополя гестаповцы привезли жену и двух мальчиков Цыпкина и именно здесь, в Евпатории, расстреляли. Однажды к женщинам заглянул сосед Иван Гнеденко, или, как звал его весь город, Ванька Рыжий. — Я знаю, у вас прячутся двое,— сказал он,— я тоже укрыл одного — ваши его знают. Но у меня пацан случайно заметил гостя, может проболтаться. Нельзя ли моего к вам, на время, там что-нибудь придумаем. Женщины замахали руками, сказали, что у них никого нет. «Надо бы взять,— говорил вечером Цыпкин,— где двое, там и трое». «Ни за что! — отрезал Павлов.— Это провокатор». Десантники выяснили, что Ванька Рыжий работает возчиком на электростанции, по слухам — пьяница, его постоянное место — возле рынка, у забегаловки. Гостем Гнеденко оказался бывший секретарь Симферопольского горкома партии Александр Иванович Галушкин, который должен был возглавить в освобожденной Евпатории партийную организацию. Получив отказ, Ванька Рыжий — Гнеденко перепрятал десантника на Льва Толстого, 13. Александр Иванович поселился в семье Гализдро — жили здесь бабушка Матрена Васильевна, ее дочь Мария Ивановна, дети Марии — шестнадцатилетний Толя и Антонина 22-х лет. У Антонины был свой ребенок — Георгий, один год и восемь месяцев от роду. Большая была семья. Галушкин начал создавать подпольную группу. Из писем жене Галушкина от его сослуживцев, друзей: «Тов. Галушкина! Ваш муж два месяца тому назад был, в операции и не вернулся, сведений я о нем не имею. Судьбу его выясняем. Не отчаивайтесь, возможно, он в горах и отыщется. 3 апреля 1942 года». Александр Иванович был еще жив. «Уважаемая Вера Андреевна! С большим сожалением и глубоким прискорбием должны еще раз подтвердить предыдущее известие и сообщить, что Александр Иванович считается без вести пропавшим. 23 апреля 1942 г.» Александр Иванович был еще жив, и жить ему оставалось ровно две недели. Из давнего, в начале войны, письма Галушкина сыну: «Юра! Ты рукой мамочки писал, чтобы я крепко бил фашистов и в руки им не попадал. Дорогой мой сыночек!.. Всегда за поясом у меня наган, из которого скорее застрелюсь, чем к фашистам попаду». Их выдали. 7 мая дом оцепили каратели. Александр Иванович отстреливался. Когда остался один патрон, он выстрелил себе в висок. Он был последним десантником, погибшим в Евпатории. Александр Иванович Галушкин лежал посреди двора, и фашисты загоняли сюда случайных прохожих. Вопрос был один: «Кто знает этого человека?» Никто не знал. Кроме семьи Гализдро и Ваньки. Семью Гализдро пытали сначала в доме, всех — от старой бабушки до ее правнука Георгия — его, самого маленького, хватали за волосы, пинали. Шестнадцатилетнему Толе забивали в голову гвозди. Его мать Марию Ивановну увозили в гестапо полубезумной. Их расстреляли всех, всю семью. Вместе с ними долго пытали, а затем расстреляли членов подпольной группы — комсомольцев Дроздова, Руденко, Бузина. Неопознанный Галушкин продолжал лежать во дворе. Когда дом Гализдро оцепили, Ванька Рыжий был у своего брата Федора. Ванька глянул в окно и увидел — оцепляют не только дом, но и весь квартал. — Беги! — сказал Федор.— Еще успеешь. — Не побегу,— ответил Иван. Он боялся за свою семью и сам вышел навстречу фашистам. Когда Павлов узнал, что Гнеденко арестовали, он выцарапал на потолке: «Павлов, Цыпкин. Здесь скрывались 2 комиссара, но погибли от предательства Ваньки Рыжего И. К. Гнеденко, живущего по этой улице».
Конечно, были и трусы, были и предатели. На войне как на войне. Были в Евпатории и свои полицаи — из местных. Но не они определяли характер города, не они определяли судьбу войны.
Все Ванька, да Ванька, а было ему пятьдесят лет. Отчества его никто не знал, да и зачем человеку отчество, если он работает возчиком и выпивает. Его держали в полиции ровно неделю. Он знал и того, кто застрелился во дворе дома Гализдро, и тех, кто скрывался на улице Русской в доме № 4. Мне неизвестно, пробовали ли в полиции подпоить Гнеденко. Может быть, может быть. Потом пальцы его рук стали вставлять в дверной проем, пока не переломали. Потом отрезали ему уши и нос. Потом отпилили ему кисти рук, потом отпилили ноги. Живые останки Ваньки Рыжего лежали в гестапо. И фашисты стояли над ним. Трудно было узнать в человеке человека, одна лишь душа еще трепетала, мерцала, доживала последние минуты свои. Загадочная славянская душа. Таких мук, какие принял Ванька Рыжий, не принял никто и никогда на этом побережье, начиная, наверное, со времен скифов. Воюют солдаты, но побеждает народ. Мы часто говорим,— народ, народ!.. Велик, могуч! Как о чистом воздухе, который не увидеть и не объять. Но увидеть, потрогать, положить на плечо руку — народу, как? Возчик Ванька Рыжий — вот народ. Иван Кондратьевич Гнеденко. ...Десять дней лежал неопознанный Галушкин во дворе опустевшего дома Гализдро. Фашисты установили пост — а вдруг кто-то из его знакомых заглянет? Все зря.
В 1944 году приехал на побывку молодой летчик Леонид Гализдро-Капшук, муж Антонины. Ни жены, ни маленького Георгия, никого в доме не нашел. — Мы еще разберемся после войны, чье это дело,— сказал он. Он собирался искать предателей, а пока поспешил на фронт, добивать фашистов. Тогда же, в 1944 году, он и погиб.
Что ни говорите, а мгновенную решимость проявить легче, чем постоянно, всегда быть готовым к любым испытаниям. Один раз в жизни можно все, один раз даже трус может себя превозмочь! Прасковья Григорьевна Перекрестенко в войну проявила оба качества. И мгновенную решимость, когда надо было принять в дом 60 десантников, а затем и воинскую твердость, долготерпение, когда двое десантников остались на два года и четыре месяца. В самое страшное время она хранила и оберегала здесь Советскую власть в лице ее главного руководителя. Она, ее шестилетний сын и старики — все они за два года и четыре месяца могли быть расстреляны каждый день. Неисповедимы пути людские. После войны Перекрестенко жила уже не на улице Русской, а в другом доме, неподалеку. Жила много лет. И вот из этого дома ее стали выселять. Горисполком решил продать домик, как малометражный. Кому? Другому лицу. Прасковья Григорьевна хотела сама внести деньги, чтобы купить этот домик, в котором прожила много лет. Но ей сказали: нельзя. Эти события происходили в конце шестидесятых годов, сразу после того, как по соседству, на Русской, 4, была торжественно открыта мемориальная доска. К этому времени Перекрестенко уже больше лежала, чем ходила,— стали сильно опухать ноги. К кому обратиться? Если бы хоть кто-то был жив из тех моряков, которых она целые сутки прятала у себя, спасала. Хоть один, любой, он бы ее не дал в обиду. Но ведь есть, живы те двое — Павлов и Цыпкин! Цыпкин был от нее далеко, болел, и она не стала его тревожить. Павлов жил неподалеку. К нему, Федору Афиногеновичу Павлову, и обратились знакомые Прасковьи Григорьевны: (сама она не решилась обратиться). Павлов ответил коротко и прямо: — Перекрестенко? Что заслужила, то и получает. В подполье проявляла пассивность, работала под нажимом. Что же произошло?
Два человека жили вместе. Не день, не неделю, не месяц. Два года и четыре месяца под одной крышей, спали рядом, ели из одной миски. После войны один из них, Федор Афиногенович Павлов, решил объявить себя руководителем крупного евпаторийского подполья. Он обратился в первую очередь к Цыпкину: — Поддержишь меня — и я тебя не забуду. Цыпкин наотрез отказался. Перекрестенко тоже отказалась лгать. И оба из товарищей превратились во врагов. Если бы хоть кто-то был жив из моряков, из тех шестидесяти... И вдруг — есть! Жив! Жив Алексей Лаврухин, пулеметчик из группы Литовчука, из той самой четверки, которая добралась до Севастополя. Жив, в Севастополе же и живет. Как сумел он уцелеть в этой войне — непостижимо! Вы, конечно, слышали песню с такими словами: «Последний матрос Севастополь покинул...» Считайте, что эти строки про Алексея Лаврухина. У Херсонесского маяка оставалась последняя группа защитников, и сюда пришел за ними (прорвался, пробился через огненное кольцо) последний катер. Моряки прыгали с обрыва на берег, а Лаврухин не мог прыгать, у него были перебиты обе ноги; он полз к обрыву, а вниз стал спускаться по веревке. Оставалось несколько метров, когда он, потеряв сознание, рухнул вниз. Дальше не помнил ничего — как его подобрали, как шли морем... Очнулся в Новороссийске, в госпитале, здесь его нашло долго плутавшее письмо от Ольги — невесты. Обе ноги его были черные. — Жить будете, ходить — нет,—так сказали ему врачи. Но моряк Алексей Лаврухин и жить остался, и ходить стал. Он еще получил медали за освобождение двух европейских столиц. Когда его разыскала Перекрестенко, у них с Ольгой Прокофьевной было уже четверо детей. Он работал слесарем на одном из заводов в Севастополе. Работал, как воевал,— безупречно. Больше пятидесяти грамот, поощрений, благодарностей, имя — в Книге почета. «Многоуважаемая Прасковья Григорьевна, вы для меня мать родная, хотя и не по возрасту, но по содержанию своей души. Не отчаивайтесь, Прасковья Григорьевна, не для того я оставался живой и через двадцать шесть лет появился перед вами на свет, чтобы не помочь вам, Алексей Лаврухин. 2. IX. 68 г.» Он не сомневался, что своего добьется. «Уважаемая редакция. Я хочу напомнить об одной тыловой гражданке... В городе люди думают, что все десантники погибли, но так не бывает, кто-нибудь жив да остается, и вот я двадцать шесть лет спустя заявляю, что я живой. До этого я молчал, ведь все мы воевали, что кричать об этом? Не буду описывать, что у нас была за встреча с Прасковьей Григорьевной, всякий поймет... От имени, своих погибших товарищей я добиваюсь и буду добиваться, чтобы к ее нуждам отнеслись по справедливости. А. Лаврухин, бывший моряк Ч. Ф.» В Крым вылетела журналистка Ирина Дементьева. ...Конечно, она встретилась и с Павловым. И он с ошеломляющей неприязнью повторил слово в слово: — Что заслужила Перекрестенко, то и получает. В подполье проявляла пассивность, работала под нажимом. И тогда журналистка спросила; — Кормила ли?.. Растерялся Павлов. Но ненадолго. — Ну... разве что кормила. Правда все-таки остается, все проходит, а она остается.
Дом вернули Перекрестенко. Почти до конца шестидесятых годов так и считалось — из 740 десантников только четверо добрались до Севастополя, из них трое потом погибли. Но когда Перекрестенко попала в беду, откликнулись вдруг... другие участники десанта. Словно из небытия возникли М. Борисов, рабочий из Немана (бывший морской пехотинец), Н. Панасенко, инженер из Новосибирска (бывший разведчик), X. Ровенский, рабочий из Днепропетровска (бывший сапер, это его ранило в глаз и женщины на Русской, 4, ножницами вынимали осколок). Чуть позже стали всплывать новые имена — бывший командир роты морских пехотинцев Николай Шевченко (из Краснодара), бывшие пулеметчики Виктор Дунайцев (из Симферополя) и Василий Щелыкальнов (из Гусь-Хрустального), потом обнаружились Корниенко, Пронин, Крючков. Сколько их осталось в живых? Точно не знаю. Все равно единицы. Что спасло их? Чудо. Кого-то в трюме корабля тяжело раненным доставили в Севастополь, кого-то в бессознательном состоянии взяли в плен (фашисты моряков в плен не брали, но в Евпатории были и румынские части). Бывший морской пехотинец Николай Панасенко прошел шесть фашистских концлагерей и лазаретов для военнопленных, его выводили на расстрел. Разве не чудо, что он жив! И даже из группы Латышева (13 человек высадились с подводной лодки с заданием выяснить судьбу десанта. Последние слова Латышева: «Подрываемся на своих гранатах, прощайте...»), даже из этой маленькой группы один спасся — Василюк, он кинулся в море. Остался жив Иван Клименко: с гибнущего тральщика «Взрыватель» его отправили с донесением — вплавь в Севастополь. До войны он участвовал в марафонских заплывах. И теперь плыл долго в январской ледяной воде, пока его в полубессознательном состоянии не подобрал наш корабль. Какими они возвращались... Об Иване Клименко (он был награжден боевым орденом) рассказал бывший чекист Галкин: — Он очень больной был. Так с виду вроде ничего, а как заговоришь о десанте, его начинает трясти... Говорить с ним нельзя было, я почти ничего и не узнал от него. Он умер. Василий Александрович Галкин неспроста интересовался судьбами десантников. Перед войной его рекомендовал в партию Александр Иванович Галушкин. Уйдя на пенсию после работы в органах безопасности, он продолжал заниматься историей десанта. И это он, Галкин, в конце концов раскопал историю Галушкина, семьи Гализдро, Ваньки Рыжего. Большое это дело — чувство долга. Лаврухин, с которого все это началось, никак не мог поверить, что трое его боевых друзей по десятидневному переходу погибли потом при защите Севастополя. Особенно не хотел смириться с гибелью самого лихого из них — тезки Алексея Задвернюка. Лаврухин так и говорил друзьям: не мог он погибнуть. Я — мог, он — нет. И свершилось еще одно чудо. Действительно, жив оказался Алексей Задвернюк! В одном из поселков Горьковской области работал в колхозе бригадиром. ...Как они встретились в Москве, на перроне Казанского вокзала! Двадцать восемь лет спустя! Лаврухин не рассчитал, и вагон с Задвернюком проплыл мимо, но тот уже стоял в тамбуре первым и сам, узнав в толпе Лаврухина, спрыгнул на ходу. Как они встретились! Как кинулись друг к другу! Они плакали — два моряка... И фотокорреспондент Сергей Косырев, сам фронтовик, расчувствовавшись, забыл нажать кнопку фотоаппарата. Успел снять в последний момент. Они относились друг к другу с нежностью — оставшиеся в живых десантники. Они — малая горстка их — ездили к Лаврухину в гости в Севастополь, оттуда вместе морем — в Евпаторию. Они снова оказались рядом, и это время было самым счастливым в их жизни.
Погибшего моряка накрывают морским флагом. Священнодействие — воина накрывают тем флагом, под которым он сражался, который он защищал. Адмирал Нахимов на смертном одре был накрыт андреевским флагом с линейного корабля «Императрица Мария», который развевался над ним в Синопском сражении. Когда 5 января 1942 года фашисты на бреющем полете расстреливали наши корабли, убитых моряков тоже накрывали военно-морским флагом. Если вы, читатель, увидите вдруг, что какой-то старик нервничает, хочет быстрей попасть к врачу,— не сердитесь на него, это, быть может, Ровенский, почти ослепший, пришел лечить единственный глаз свой. Если увидите, что пожилая женщина с трудом, задыхаясь, переходит улицу,— помогите ей, это, быть может, немного дальше, чем надо, убрела от дома на больных, опухших ногах своих Перекрестенко, и ей не хватает сил вернуться. И пожилому мужчине уступите место в автобусе. Я знаю, о любом старике надо заботиться, о каждом. Но все-таки... Может быть, это Лаврухин, у него изранены обе ноги. Уступите сегодня, сейчас. Завтра будет поздно. Завтра его не будет. Это только кажется, что их много и что они всегда с нами. На самом деле они уходят, их почти не остается. ...В конце семидесятых годов, в самом конце ноября, на одной из окраинных севастопольских улочек умирал старик — высохший, желтый, с остатками седых волос. Когда к дому подъехала «скорая помощь», чтобы забрать его в больницу, где он должен был умереть, зять, молодой парень, накрыл его одеялом, легко, как пушинку, поднял на руки и вынес. Во дворе старик попросил положить его на землю. Он оглядывал крыльцо с пластиковыми перилами, которые сам делал, чтобы легче было ходить, цементный двор, баньку в углу, виноградные лозы вокруг. Он лежал минут десять, он все хотел запомнить. Потом его положили во дворе на носилки и вынесли за ворота, где стояла «скорая помощь». И он опять попросил положить его на землю возле дома. Осень была на исходе, но светило солнце и стояла тишина; такая была благодать в природе, что лучше и не надо. И это хорошо, потому что даже малое движение воздуха, легкий ветерок мог поднять старика и унести — так он был слаб и худ, к тому же у него не было одной ноги, от самого бедра. Он лежал, рассматривал крашеные ворота, белые занавески на окнах, булыжную улицу, женщин, идущих на базар с сетками, корзинами; он смотрел на все это, и санитар не торопил его. Это был Лаврухин. Перед этим его парализовало — правую часть тела, и он упрямо учился писать левой рукой. Потом нога его почернела, как тогда, в войну, когда он последним уходил из Севастополя. Ему сделали три операции, прежде чем ампутировать ногу. До смерти оставалось еще месяца два, когда он спросил Ольгу Прокофьевну: «А в чем ты положишь меня?» Она заплакала. Но он ей приказал, и она вынула из шифоньера белую рубашку — новую, ни разу не надетую, которую зять привез из-за границы. Достала костюм черный. «А на ноги что?» Она, не переставая плакать, достала ботинки, «Не надо,— сказал он,— тяжело с одной ногой в ботинках. Тапочки коричневые приготовь». - А чем накроешь меня? — спросил бывший моряк Лаврухин. Она показала ему белый красивый тюль. — И не жалко тебе? Он хотел ее рассмешить, а она еще больше заплакала. ...Я спрашиваю Ольгу Прокофьевну, какие были его последние слова. — Он с вечера мне сказал: домой не уходи. А рано утром умер. В полном сознании, он только имена одни называл, торопился. Думал разговором смерть перебить. Сначала родных всех называл — попрощался, потом однополчан — много имен, тех даже, кто еще тогда, в январе, погиб... Похоронили очень хорошо. Музей Черноморского флота машину дал, завод помог, все товарищи пришли. Перекрестенко пятьдесят рублей прислала. П. Перекрестенко: «Я, когда узнала о смерти Лаврухина, дак я кричала криком? Одна я теперь осталась». В одно время с Лаврухиным парализовало в Горьковской области Задвернюка. Тоже правую половину тела. И умер он в тот же год, той же осенью. Они были, как близнецы,— два Алексея».
|