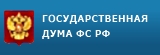«ШЕДЕВРЫ» ДОКТОРА ТИМОШЕНКО ИЛИ КАК НЕЛЬЗЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЧАИ |
| 08.05.13 07:58 |
|
Согласно протоколу № 7 на собрании представителей трудового коллектива 23 апреля 2013 года обсуждался вопрос публикаций СМИ порочащих здравоохранение города. На этом собрании заведующий травматологическим отделением Сергей Тимошенко заявил, что «данные публикации и репортажи ТВ порочат деятельность медучреждения и создают неблагоприятный имидж для медработников горбольницы, в результате чего имеются уже факты отказа от лечения в травматологическом отделении. Хотя за прошедшие годы было проведено более 30 операций с успешным исходом (эндопротезирование суставов). Таким образом наноситься моральный вред не только медработникам больницы, но всему здравоохранению города». С.В. Тимошенко предложил «направить обращение в депутатский корпус для принятия мер в отношении депутата Заскоки В.М. (председателя комиссии депутатской деятельности и этики), пригласить ... на очередное собрание трудового коллектива для уточнения правдивости информации...». Как всегда, не обошлось без участия профсоюзного лидера медиков – Галины Дмитрук, которая, в связи с выдвижением на общественную работу утратила связь с реалиями медицинской практики. Тем ни менее, это не помешало ей принять активное участие в осуждении депутата, позволившего себе критику городского здравоохранения. Вместо того, чтобы проверить факты, изложенные в публикациях, уличить журналистов в неправдивости и опровергнуть информацию, руководство здравоохранения бросило все силы на организацию общественного порицания депутата. Выступление доктора Тимошенко, пронизанное беспокойством за имидж городской больницы, не дает ответа на главный вопрос: что конкретно в обсуждаемых публикациях не правда. Оратор эти вопросы не затрагивает, переживая, в общем, и целом. Хотя очевидно, порочат наше здравоохранение не СМИ, а сами медики, чему есть не мало примеров...
История № 1046
Больная Н., 80 лет, поступила 27 января с диагнозом: закрытый перелом шейки правой бедренной кости. При госпитализации: общее состояние больной удовлетворительное (?). 2 февраля ей сделана операция – «тотальное цементное эндопротезирование правого тазобедренного сустава системой EXETER «Stryker». Операция длилась с 11.25 до 13.20. Смерть (юридически) наступила в 14.00. Протокол операции и посмертный эпикриз написаны заведующим травматологическим отделением Сергеем Тимошенко. Согласно «протоколу операции» описана выполненная операция, ВСЯ! И это, не смотря на то, что «после затвердения цемента отмечено понижение давления, остановка сердечной деятельности в связи, с чем операцию вынуждены приостановить. Рана промыта антисептиками...» Примечательно, что в протоколе операции отсутствуют какие-либо упоминания о проведении реанимационных мероприятий. Проще говоря, о попытках врачей вернуть пациентку к жизни. Вряд ли промывание раны антисептиком способно заставить забиться остановившееся сердце. Возникают закономерные вопросы: чем занималась бригада врачей с 13.20, то есть с момента, так называемого окончания операции, до 14.00, когда смерть пациентки была официально зафиксирована? А вот в «посмертном эпикризе» описано резкое ухудшение состояния больной в ходе операции, «после установки оцетобулярного компанента протеза»... Получается, что больная стала умирать на операционном столе, во время операции, то есть в промежутке времени между 11.25 и 13.20. И в данном случае есть вопросы. Пытались ли вернуть женщину к жизни или продолжали «оперировать» умершую? Липа в цифрах хорошо видна в «протоколе дачи наркоза», анестезиологи, там пишут всегда ПРАВДУ.
105 дней по реанимации «ходила» бабушка на костылях...
Больная Ч., 82 года поступила 23 марта, диагноз: закрытый перелом правой бедренной кости; состояние: средней тяжести, отмечено затруднение контакта с больной – деменция (?). Несмотря на то, что больная поступила в травматологическое отделение городской больницы с переломом, а не в психиатрическую лечебницу, её лечение сосредотачивается на исследовании умственных способностей, которые, как известно, не влияют на состояние костей. В тот же день при осмотре психиатра выставлен диагноз сосудистой деменции без психотических расстройств. То есть формально бабушка и нормальная, но «плохо» контактировала с травматологами… А может и тяжесть состояния недооценена? 30 марта больную берут на операцию. В осмотре анестезиолога состояние оценено как тяжелое! Но бабку, все равно БЕРУТ. Операция – «открытая репозиция проксимального отдела правой бедренной кости, металлоостеосинтез пластиной и винтами». Правда, сведения о производителе трансплантантов, где и кем изготовлены пластины и винты, в истории болезни, как и у других больных, перенесших подобные операции, отсутствуют. И, по-видимому, не случайно. После операции больная лежит, как и положено, в Отделении анестезиологии и интенсивной терапии (ОАИТ), а по-простонародному – в реанимации. Ежедневно её осматривают специалисты и отмечают в истории болезни – «состояние больной тяжелое...». Наблюдают пациентку и заведующие: ОАИТ – Павел Островский и травмотделением – Сергей Тимошенко. Так проходит две с половиной недели. Но вот наступил четверг, 16 апреля. Согласно истории болезни пациентку Ч. в этот день в 8.20 вновь посетили и осмотрели заведующий ОАИТ и анестезиолог. Констатировав состояние больной как «тяжелое» они запланировали перевод Ч. в травматологию. В 11.00 больную переводят в «тяжелом состоянии» (?) в отделение травматологии, а в 12.00 она уже была выписана после «реабилитации» (?)... «в удовлетворительном состоянии» (!?) на амбулаторное лечение. Выписал заведующий отделением Сергей Тимошенко. В рекомендациях больной Ч. доктор Тимошенко рекомендует «ходьбу на костылях до 6 месяцев, ЛФК...». В это трудно поверить, но, через 20 минут после «выписки», в 12.20, все того же 16 апреля, гражданка Ч. сама (!), обратилась в реанимацию... Все тот же доктор Тимошенко заводит на больную новую историю болезни, будто бы и не он выписал старушку 20 минут назад? Сам Сергей Владимирович это «забыл», так как собственноручно запишет состояние больной «тяжелое», а положение «лежачее»... (А может, психиатру следовало обследовать и его в связи с резкой и полной потерей памяти...). Кстати, в числе прочего, как сопутствующие диагнозы у «самообратившейся» зафиксированы «пролежни в области крестца». Надо же, но все тот же анестезиолог в 16.00 так же, как он это сделал еще утром, в 8.00, зафиксирует состояние Ч. как «тяжелое». Причем он продолжит писать дневники в истории этой больной о тяжелом состоянии и далее... 22 мая больная Ч. по настоящему переводится в травматологию, где врач-интерн, согласно дневниковым записям (22, 25, 27 и 28 мая) в истории болезни, наблюдает «среднетяжелую» больную раз в 2 – 3 дня. При этом, как видим, все инструкции, о ежедневном наблюдении за среднетяжелыми больными в отделении были проигнорированы. 28 мая пациентка Ч. в 11.30 выписана на амбулаторное лечение врачом-интерном В.Ю. Семеновым и заведующим отделением С.В.Тимошенко. Вы не поверите! Но, уважаемые доктора из травматологии, среди прочих лечебных методик рекомендовали старушке ... «ходьбу на костылях до 6 месяцев»! На этом лечение не закончено. После «выписки» 28 мая гражданка Ч. уже в 8.40 29 мая «поступает» в «плановом» порядке из дома. Судя по скорости перемещения пострадавшей, она, исполняя рекомендации врачей, не просто ходила, а бегала на костылях. Реально же она лежала с 12 часов 28 мая по 8.40 29 мая все в той же палате №10, и никто ее домой не забирал. На чем могли везти такую больную из дома (где она и не была) – только на скорой помощи, ведь реально – она «носилочная». Но скорая помощь не везла ее – нет данных на скорой «об этой транспортировке». Проверено! Дальше больную снова наблюдает врач-интерн, качество его записей и лечения не поддается вообще критике: дневники по типу наклеек из компьютерной распечатки…. И показатель артериального давления одинаковый и лишь иногда, почти одинаковый. Шедевром являются дневники совместных обходов с заведующим отделением. В учебники должна войти фраза: «Динамика пролежней сохраняется, без изменений». В пятницу 17 июля, в 17 часов 25 минут Ч. спокойно почила в бозе, в палате № 10. Таким образом, бабушка пролечилась (просуществовала), вопреки чьим-то желаниям, аж 105 дней... Что в этой грустной истории означает вся эта медицинская суета с выписками и поступлениями в больницу? Во-первых, выписка 16 апреля убирает последующую послеоперационную смерть, то есть, таким образом, в больнице «влияют» на показатель послеоперационной смертности. Во-вторых, снимается вопрос, а нужна ли была 30 марта операция тяжелой больной и вообще, насколько оправдано было её проведение 80-летнему человеку. Остается открытым вопрос, проводилась данная операция для блага пациента или для блага врачей. Ведь не секрет такого рода операции очень дороги... Андрей Солнцев
|